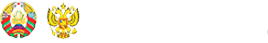Неизвестное сражение на «Линии Сталина»
Корреспонденты нашего сайта побывали на доте №6 под Минском. В июне 1941-го его гарнизон четыре дня сдерживал фашистские танки

Фото: Валерий Перевощиков
Из-под земли достали
Бункер словно вырос из маковки холма. Мы шли к нему через хлюпающее поле, карабкались на склон, срывая комья грязи. Когда впереди зачернели глазницы амбразур, даже не верилось, что перед нами нечто рукотворное. Бетонные стены скрывались под грязью и зеленым мхом, словно под маскировочной сеткой.
- Как это сооружение правильно называется? – спросил я, отдышавшись.
Валерий Перевощиков, руководитель военно-патриотического комплекса «Патриот», сделал еще несколько вздохов и ответил:
- Это четырехпушечный дот №6. Но мы называем его Брестской крепостью "Линии Сталина". Потому что это самая укрепленная огневая точка во всем минском укрепрайоне.

Я огляделся: с поверхности дота действительно аккуратно сняли около метра грунта. Теперь стали видны стальные скобы с повязанными на них георгиевскими ленточками. Почти 80 лет этот дот, один из сотен и даже тысяч, стоял брошенным и всеми забытым. Но нынешней весной поисковики комплекса «Патриот» в прямом смысле достали его из-под земли и вынесли центнеры мусора. Все лето здесь работали школьники, всего около 200 человек. Но в будущем Валерий Перевощиков собирается мобилизовать еще большие силы.
Памятник фортификационного искусства
Если отъехать от Минска километров на 20 к Западу, то "Линия Сталина" – она везде. Речь идет не только об историко-культурном комплексе с таким названием – том, где выставка военной техники, реконструкции, тиры, бронепоезд и пейнтбол. Это лишь маленький пятачок по сравнению с сетью укреплений, которые строили все 30-е годы прошлого столетия. Линия дотов шла от Карелии до Черного моря, только в Беларуси их больше тысячи.
Дот №6 километрах в пяти от комплекса «Линия Сталина». Мы сворачиваем на громыхающую бетонку, Валерий Перевощиков начинает вскидывать руку, указывая то туда, то сюда..
- Видите, бугор наверху, под деревом, - говорит он. - Это пулеметный дот. (Присматриваюсь - есть что-то похожее на бункер). А вон еще один, слева, во дворе дома. Местные из него погреб сделали. Доты располагались так, чтобы находиться в постоянном визуальном контакте. Как средневековые башни: когда один видел врага, об этом сразу узнавали все. К началу Великой Отечественной все это было уже во многом бесполезно.
К 1941 году линия укреплений отчасти и правда превратилась лишь в памятник фортификационного искусства. Бункеры-доты возводили по границе с Европой, они должны были сдержать первый удар. Но в 1939 году граница вдруг ушла на Запад, Беларусь в составе Советского Союза вернула свои западные земли - Брест, Гродно, Пинск… Новая граница прошла по "Линии Керзона". А оборонительная "Линия Сталина" оказалась в глубоком тылу. С дотов сняли пулеметы, вывезли боезапас… Бетонные бункеры превратились в место игр пацанов и привалы грибников.
Случилось это, правда, не везде. 6-й дот с его четырьмя пушками остался на месте.

- Перед войной в шестом доте стояло четыре 76-миллиметровые пушки, - рассказывает Валерий Перевощиков. - Два орудия были направлены на Север, еще два - на юг. Они хорошо простреливали две трассы, ведущие в Минск – старый тракт Минск - Вильнюс и шоссе из местечка Радошковичи. Вокруг дота были казармы, кухня, лазарет, склады боеприпасов. Все это сгнило, остался только бетон укрепления. А вот здесь стояло орудие. После залпа все помещение заволакивало дымом. А вентиляция вышла из строя уже на второй день боя.
Каменный мешок
История 6-го дота, как это ни удивительно, известна довольно хорошо. Еще в 1967 году ее начали изучать школьники-поисковики из 62-й и 65-й школ Минска. Они нашли свидетелей в деревне Мацки, неподалеку от которой расположен дот, свидетеля событий начала войны. Председатель сельсовета Александр Иванович Абакунчик рассказал им, что в Казахстане живет бывший заместитель политрука дота Филипп Рябов. Председатель дал ребятам адрес, и началась интенсивная переписка. Именно от Рябова стала известна большая часть подробностей.
- В гарнизоне дота было 22 бойца, - рассказывает Валерий Перевощиков. - Немцы появились уже 26 июня, на 4-й день войны. С рассвета часовые вглядывались в горизонт. Это сейчас здесь лес, а тогда было чистое поле. Когда на старом тракте появились танки, артиллеристы открыли огонь бронебойными. Весь первый день шел ожесточенный бой, наши подбили порядка десяти танков.

Но утром гарнизону дота пришлось туго. Немцы подтянули артиллерию и авиацию, земля дрожала и ухала, снаряды и авиабомбы сыпались на бетон. Бункер, кстати, выдержал. Но вот кухня, склад с продовольствием, силовая установка и запас бензина для движка генератора были уничтожены. Гарнизон оказался в темноте, без воды и пищи. И без вентиляции, которая в условиях дота – одна из важнейших систем. Каждый залп наполнял казематы едким дымом, дышать было нечем.
- Защитники старались уходить в нижние казематы, в те же гильзовые колодцы, потому что дым скапливался наверху, - рассказывает Перевощиков. – Кроме того, дот оказался практически в полном окружении. Поначалу продукты, продовольствие и бинты для раненых подвозили жители деревни. Но позже пространство вокруг простреливалось врагом, даже за водой к реке защитники дота прорывались под плотным огнем.
Каждая атака и налет приносили потери, все больше становилось раненых, контуженных, убитых. Один танковый снаряд попал прямо в амбразуру: взрывом разворотило орудие, убило заряжающего и наводчика, еще четверых бойцов ранило осколками.
- Без воды и еды солдаты воевать могут, а пушки без снарядов – нет, - вздыхает Перевощиков. - На 4-й день боеприпасы иссякли. И тогда по приказу штаба оставшиеся в живых бойцы вытащили замки из пушек, спрятали их и начали пробираться на Восток. Мы, кстати, искали эти замки. Все вокруг перерыли. Но пока не нашли.
Я пытаюсь сдвинуть проржавевшую дверь, похожую на те, что в голливудских боевиках запирают банковские хранилища. Дверь стонет, сдвигается на пару миллиметров, мне удается прошмыгнуть вовнутрь. Дот изнутри – это сырой каменный мешок. Узкие проходы ведут к амбразурам, под ногами – скаты гильзовых колодцев. Тут и там видны маленькие бойницы для автомата: солдаты могли вести бой, даже когда враг уже внутри.
- Вот здесь надо хотя бы побелить, - говорит он. – Гильзовые колодцы надо заложить, амбразуры поправить. И, конечно, нужно провести сюда свет. Чтобы люди, приехав сюда с семьей и детьми, могли представить, каким был этот бой, в каких условиях солдатам приходилось сражаться.
В тему
Из плена в плен
Кстати, судьба Филиппа Рябова сложилась после обороны 6-го дота очень необычно. Он почти сразу попал в плен к немцам. Потом сбежал, вернулся в Мацки и прятался несколько дней у местных жителей. Но немцы нашли его, снова пленили. Однако Рябов сбежал и на этот раз. Так продолжалось всю войну – заместитель политрука убегал и снова попадал в плен.

Филипп Рябов. Послевоенное фото
- Только в мае 1945 года в лагере на юго-западе Германии его освободили английские войска. После войны Рябов отслужил еще год, а потом отправился в родной Казахстан, - говорит Валерий Перевощиков.
Кстати
В пандемию не до «Линии Сталина»
На пути в Минск мы заехали в тот самый известный историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Говорят, там всегда люди - осматривают выставку, наблюдают за какой-нибудь реконструкцией сражений, стреляют в тире и играют в пейнтбол. Однако в тот день не было почти никого. Лишь одна семья с маленьким карапузом бродила между танками и самоходками. Оказалось, что в последнее время из-за пандемии коронавируса посетителей в этом военно-историческом парке стало намного меньше.
- Посещаемость упала очень сильно, - сказал нам исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла, - Недавно отмечали День Ракетных войск, люди приезжали, но по сравнению с тем, что обычно, очень мало. Я надеюсь, что что-то поменяется, но пока что просвета я не вижу. Но мы продолжаем работать. У нас появился бронепоезд, который мы недавно закончили реставрировать. А еще бронеавтомобиль Б-11, мы делали с нуля по чертежам. Сейчас делаем капитальный ремонт легкого танка БТ-7, а в долгосрочной перспективе будем делать аэродром со взлетно-посадочной полосой. Планов очень много, но на все нужны деньги. А у нас сейчас такое положение, что стоит вопрос о том, чем платить персоналу, не то что финансировать масштабные проекты.