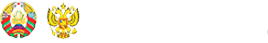Белорусско-российское сотрудничество
24.03.2009
Белорусская Народная Республика: иллюзорный проект или реальная государственность?
В последние годы оппозиционные силы стараются шумно отметить очередную годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики (БНР). 25 марта объявлено «Днем Воли». Усилиями некоторых историков выпущено немало книг, брошюр и статей, в которых предпринята попытка доказать, что 25 марта 1918 г. – это одна из немногих исторических дат, «якія павінны памятаць і шанаваць беларусы».
В последние годы оппозиционные силы стараются шумно отметить очередную годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики (БНР). 25 марта объявлено «Днем Воли». Усилиями некоторых историков выпущено немало книг, брошюр и статей, в которых предпринята попытка доказать, что 25 марта 1918 г. – это одна из немногих исторических дат, «якія павінны памятаць і шанаваць беларусы».
Споры вокруг БНР не утихают до сих пор. Однако, чтобы понять и объективно оценить сам факт ее провозглашения, следует иметь ввиду явления и тенденции, предшествовавшие этому событию. Безусловно, и стоки белорусской государственности уходят в глубину веков. Ее элементы отчетливо проявились в Полоцком и Туровском княжествах, Великим княжестве Литовском. Однако конкретно вопрос о государственном самоопределении белорусских земель был поставлен в начале ХХ века, когда в условиях индустриальной модернизации, развития конкуренции и рыночных отношений рост национального самосознания охватил многие этносы, находившиеся в тот период на периферии экономической, общественно-политической и культурной жизни. Белорусская интеллигенция, ставшая генератором идей национального самосознания белорусов, не могла не задуматься о возможных формах самоопределения края. В программе Белорусской социалистической громады (1903 г.), социальную опору которой составляли белорусские интеллигенты, говорилось: «Стремясь заменить самодержавный строй Российского государства Федеративной демократической республикой со свободным самоопределением и культурно-национальной автономией народностей, входящих в состав государства, БСГ выставляет требование автономии Белорусского края с местным сеймом в Вильно».
Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, революционные события в Европе привели к крушению монархических империй и способствовали реальному самоопределении народов, усилению борьбы этнических элит за расширение прав своих этносов. И все же тенденция интеграционных процессов даже в условиях Российской империи явно преобладала над тенденцией к дезинтеграции. Вот почему до октября 1917 г. идеи национального самоопределения, как правило, не выходили за рамки территориальной или культурно-национальной (персональной) автономии. Другое дело, что бюрократизм царской монархии, бездействие Временного правительства в 1917 г., последовавший затем Октябрьский переворот в Петрограде создавали ощущение крушения централизованного государства и угрозы разгула анархии, от чего многие деятели, претендовавшие на роль национальных элит, постарались себя обезопасить провозглашением независимости и строительством национально-государственных образований.
Не секрет, что поначалу идеи независимости были призваны служить национально-либеральным элитам воплощению главной для них в тот момент цели – отстранению от власти большевиков. Что касается самой большевистской партии, то, провозглашая право народов на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, она рассматривала это право в большей степени в качестве тактического средства в борьбе против «империалистических метрополий», делая основной упор на экспансию социалистических революций, в первую очередь на европейском континенте. Тем не менее новая правящая партия не могла не считаться с реальным проявлением национального самосознания этносов, уделяя определенное внимание национально-государственному строительству в самой России и на ее окраинах.
На таком фоне развертывалось строительство белорусской национальной государственности, в котором выявились две тенденции. Первая – отражала потребности преодоления на основе советской формы модернизации и государственного строительства национальной и социальной отсталости. Другая – выражала стремление к самоопределению белорусского народа в форме независимой республики на основе парламентской демократии, которая воспринималась все же подавляющим большинством трудового народа как попытка реанимировать или реставрировать старые буржуазно-помещичьи порядки.
Провозглашенная умеренными интеллигентами-социалистами в марте 1918 г. Белорусская Народная Республика (БНР) ориентировалась на тогдашние образцы европейской демократии, но так и не стала государственным образованием, поскольку практически все властные полномочия в тот момент принадлежали администрации германских оккупационных войск. Отсутствовали местные органы власти, судебная, финансовая системы. Немецкие оккупанты даже и слышать не хотели о какой-то независимости БНР. Не признали БНР и ведущие европейские государства, а также США.
Кроме того, появление нового независимого государства на карте бывшей Российской империи привело к недоразумениям и с русскими белогвардейцами. Так, командующий белой армией на юге России генерал А. И. Деникин запросил у деятелей БНР, на каком основании они провозгласили независимость. Напомним, что все это происходило на фоне «суверенизации» и «огосударствления» того же Дона. Однако пришедший от белорусских интеллигентов ответ остудил даже самых видных великодержавных шовинистов. «Независимость Белорусской Народной Республики, – говорилось в заявлении Народного Секретариата БНР, – не является недружественным актом в отношении России. Сделано это было в силу сложившихся по вине ваших и наших общих врагов – большевиков, чтобы не допустить официального признания итогов позорного Брестского мира, которым белорусский народ безоговорочно передавался под ярмо германской оккупации. И акт о независимости от 25 марта сего года стоит рассматривать в первую очередь как акт непризнания советской власти и как временное явление. Мы рассматриваем народы России и Белой Руси как единое и неразрывное целое и не намерены следовать путем Украины, кавказских и прибалтийских окраин».
Однако недоверие к «независимой белорусской государственности» продолжало сохраняться. «Беларуская незалежнасць» не вызвала большого восторга как среди собственного населения, так и у ближайших соседей. Так, Рада БНР попыталась апеллировать к украинским деятелям, чтобы с их помощью получить международное признание, но те всячески уклонялись от выполнения такой функции. Более того, политические структуры Украинской Народной Республики, П. Скоропадского и Директории так официально и не признали БНР, хотя недвусмысленно намекали белорусским деятелям на возможность федеративного союза между Украиной и БНР, при главенствующей роли Украины. В то же время украинские «самостийники» не скрывали своих притязаний на белорусские земли. Об этом следует напомнить тем белорусским оппозиционерам, которые не прочь были нарядиться в «оранжевые одежды» в начале ХХ І века.
Тем не менее провозглашение независимости БНР стало важным шагом в создании белорусской государственности, поскольку привлекало внимание общественности, в том числе и в Советской России, к белорусским проблемам. Не принимая БНР как таковую, белорусский трудовой народ все чаще высказывал намерение создать белорусскую государственность на советской основе. Об этом свидетельствуют деятельность Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), функционировавшего в качестве белорусского отдела Наркомата по делам национальностей РСФСР, белорусских секций РКП(б), митинги и собрания трудящихся, красноармейцев, беженцев из Беларуси.
Например, Белнацком еще в августе 1918 г. разработал Проект Декрета о создании Белорусской области в качестве автономной политической единицы на правах самостоятельности в своей хозяйственной и политико-административной жизни. «Впредь до освобождения края от оккупационных войск и наступлению условий для свободного волеизъявления белорусского народа и созыва Всебелорусского Учредительного Съезда Советов, – говорилось в документе, – неоккупированные части Белорусской области управляются на основании изданных для всей Российской Федеративной Республики узаконений. Временно Советским правительством назначается комиссар для Белорусской области, на которого возлагается обязанность незамедлительного принятия мер к организации местной краевой власти».
Однако указанный проект тогда российским руководством был отклонен. Но вскоре романтизм РКП (б), связанный с ожиданием близкой мировой социалистической революции, постепенно рассеялся. На смену революционной романтике грядущего всеобщего социализма к коммунистам стало приходить понимание жестких реалий. Свои амбиции демонстрировали не только европейские и американские «мэтры», но и «молодые независимые европейцы», прежде всего польские деятели, рассчитывавшие расширить территорию своего государства за счет других народов. Это заставляло российское коммунистическое руководство несколько пересмотреть свое отношение к национально-государственному строительству.
Теперь упор был сделан на то, что молодые советские национальные республики должны были сыграть роль, с одной стороны, своеобразного «пояса безопасности» вокруг «форпоста социализма» – Советской России, а с другой, – плацдарма для дальнейшей экспансии социалистической революции на Запад. Подобный расчет имел важное значение в принятии конкретных решений о создании белорусской советской государственности.
Но главное заключалось в том, что образование БССР с функциональными центральными и местными органами власти – это в первую очередь результат продолжительной упорной борьбы левого крыла белорусской интеллигенции, выражение чаяний всего белорусского народа. Провозглашением 1 января 1919 г. Белорусской ССР был заложен прецедент создания политико-территориальной единицы с реальными атрибутами белорусской государственности в рамках советского строя.
В то же время опыт гражданской войны, окончание иностранной интервенции, переход к мирному строительству свидетельствовали, что выжить поодиночке советские республики не смогут, как не смогут построить новое общество. В этих условиях начался переход к новому этапу государственного строительства – объединению республик в одно государство с общими для всех республик органами управления. Так в декабре 1922 г. возник СССР. При всей ограниченности реального суверенитета в советский период БССР отнюдь не была «фикцией». Первый опыт реальной белорусской государственности имел огромное значение для развития белорусского народа на протяжении всего ХХ столетия.
Именно БССР выполнила государственную, политическую, экономическую и культурную роль объединения белорусской нации. Был создан мощный экономический потенциал, произошли серьезные изменения в социальной сфере. Впервые были сформированы реально действовавший национальный аппарат государственной власти, государственная национальная система просвещения, образования и науки, профессионального искусства и культуры, массовая национальная пресса, созданы другие институты современного государства. Советская система продемонстрировала огромные мобилизационные возможности.
Деформации общественно-политической жизни 20-30-х гг. ХХ в. не подорвали высокое чувство патриотизма белорусов, их решимость отстоять свою независимость в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война стала серьезным испытанием на мужество и стойкость нашего народа. За послевоенные годы белорусский народ не только поднял страну из руин, но и превратил ее в индустриально развитую республику. Это стало возможным благодаря помощи всех советских республик, входивших тогда в единую братскую семью народов.
Однако обострившиеся противоречия внутри административно-командной системы привели к возникновению кризисных явлений в обществе. Последовавший за этим развал СССР крайне негативно сказался на развитии экономики, культуры и науки. В то же время перед Беларусью открылись новые возможности, связанные с демократизацией всего общества, формированием современных рыночных отношений. Суверенная Республика Беларусь является реальной правопреемницей БССР, сохраняет и развивает опыт и традиции, накопленные в советский период.
Очередная оппозиционная суета вокруг БНР преследует совершенно очевидные цели: принизить сам факт существования БССР, возвеличить БНР в качестве «истинной белорусской государственности, прерванной большевиками», но отвечающей ценностям западной цивилизации. Для достижения подобных целей белорусские оппозиционеры готовы идеализировать самые иллюзорные проекты, отвергнутые историей.
Владимир Козляков, доктор исторических наук, профессор